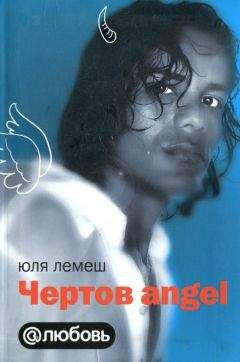Армандо Перес - О чем молчат мужчины… когда ты рядом
Я питаю к ней стойкое отвращение, хотя остальные работы этого великого венецианского скульптора люблю. Лесть в искусстве никогда не приносила хороших плодов.
– Они не дышат так, как дышат здания, – парирует он, вертя головой и улыбаясь туристам, которые, разочарованные столь резким окончанием лекции, утешаются фотографированием друг друга.
Я замираю перед «Мадонной с младенцем» Джампьетрино и словно в первый раз вижу это ее загадочное выражение глаз, эту волшебную улыбку, нежность в положении рук, в наклоне головы.
Это наш давний спор. Лео утверждает, что музыка и архитектура как формы искусства стоят на более высокой ступени, чем живопись и скульптура, ибо заключают в себе больше смыслов. Это беспримерное по идиотизму суждение он обычно изрекает, не знаю уж, для того чтобы утешить меня или спровоцировать на действие, когда замечает, что я в творческом кризисе. Именно в нем я сейчас и пребываю. Послеобеденный визит в Бреру – последняя надежда в попытке вернуться в рабочее состояние, сконцентрироваться на деле.
Начиная с пятницы я пялюсь на этот проклятый кусок аканы, рисуя в своем воображении статую прекрасной дамы с кольцом на пальце. Интересно, что ответила Ева на предложение руки и сердца? Сегодня уже воскресенье, а от нее ни весточки. Я решаю не заморачиваться дурацкими вопросами и не отправляться снова на ее поиски. Вот явится в среду, тогда и увижу ее.
Я, безусловно, должен отделить судьбу моей статуи от судьбы нашей с ней истории, долгой ли, короткой ли, иначе мне никогда не удастся создать что-либо. Так и свихнуться недолго.
– К чему такая спешка? – спрашивает меня Лео, когда мы входим в галерею и я быстрым шагом направляюсь к залам. – Ведь у нас свободен весь вечер.
– Мне пришла в голову одна мысль, – бормочу я в ответ.
Как только мы вошли в это погруженное в тишину величественное здание, которое для меня, с тех пор как я живу в Милане, всегда являлось лекарством от одиночества и источником вдохновения, я сразу понял, зачем сюда пришел. Я знаю, что ищу.
Еще бы только вспомнить, где это находится.
Сейчас части пазла сложились мгновенно. Ее необычная грация, линии ее тела, отблески ее мерцающих красок, Флоренция, Милан.
Я быстро пересекаю длинный зал I, сворачиваю налево в зал VI, а из него дальше в зал VII и тут замечаю, что я один. Лео остался где-то позади, вероятно очарованный одной из тех картин, которые он так притворно презирает. Мой взгляд задерживается на «Венецианских любовниках» Париса Бордоне, и образы Евы и ее жениха мгновенно встают передо мной. У него такая же самодовольная физиономия, как у мужчины на картине, когда тот с безразличным видом собственника заглядывает в щедрый вырез платья женщины, явно неудовлетворенной и скучающей в его равнодушном объятье. Я чувствую, как начинаю ненавидеть эту картину всеми фибрами души. К тому же я ошибся и забрел совсем не туда, отсюда путь только в обратную сторону. Я возвращаюсь назад и обнаруживаю Лео в предыдущем зале, перед картиной «Мертвый Христос» Андреа Мантеньи.
– Меня от этой картины всегда озноб пробирает, – говорит он едва слышно. – А ты почему опять здесь? Уже закончил свои дела?
– Ошибся дорогой, – отвечаю я.
Заглядываю в зал справа от меня, но сразу же обнаруживаю, что и это не тот, что мне нужен.
Тот, который я ищу, – маленький зал XIX. Я наконец попадаю в него с третьей попытки. Лео входит следом за мной, ему хватает ума удержаться от комментариев.
– Вот они, – шепчу я.
Я знал, что должен был прийти сюда. Вот что такое та интуиция, которую мне не удалось почувствовать, когда Ева упомянула о Флоренции. Сейчас части пазла сложились мгновенно. Ее необычная грация, линии ее тела, отблески ее мерцающих красок, Флоренция, Милан.
Со стен на меня смотрят нежные, самые красивые лица женщин итальянской живописи. Самые красивые после рисунков Леонардо, естественно. В этом зале собраны работы его наиболее близких и талантливых последователей: Бергоньоне, Бернардино Луини, Джампьетрино… От их «Мадонн», от их «Магдалин» веет духом «Мадонны в скалах» Леонардо и исходит завораживающий свет ломбардийских равнин. Его «Мадонна» – это высшее проявление благодарности мужчины, который смог так глубоко постичь женскую сущность и увидеть прелесть не только ее тела, но и души, как ни один мужчина после него.
Я замираю перед «Мадонной с младенцем» Джампьетрино и словно в первый раз вижу это ее загадочное выражение глаз, эту волшебную улыбку, нежность в положении рук, в наклоне головы.
– Это она, – говорю я.
– Твоя модель? – спрашивает Лео.
– Мой эталон женщины.
И внезапно, так же как я спешил сюда, я тороплюсь обратно.
– Идем, – тяну я за руку Лео, – мне надо работать.
– Ты совсем сдурел? Мы наконец-то добрались сюда… Я, между прочим, не был здесь целую вечность. И именно сейчас, когда я готов смотреть эти картины…
– Разве они не плоски и не лишены дыхания? – язвлю я.
– Уж лучше проводить вечер с картинами здесь, чем в мастерской в компании с тобой и снизошедшей на тебя Музой. И потом… – он взглядывает на «Патек Филипп», подарок своего отца, – мне еще надо выкроить часок на аперитив с Дорой, мы встречаемся тут неподалеку, в «Ямайке».
– Самое эффективное лекарство от разбитого сердца, – говорю я, впрочем, не очень-то в этом уверенный.
– Мог бы выразиться грубее, – одаривает он меня широкой улыбкой. – Так что, не жди меня. Сегодня я оторвусь по полной.
Казалось бы, я должен радоваться, что после удара, полученного от Аделы, он способен так быстро оправиться и вернуться к обычной жизни: послеобеденное безделье, алкоголь в удовольствие, ночь дикого секса с какой-нибудь подвернувшейся подружкой. А я, наоборот, испытываю странную тоску. И не понимаю, то ли это из-за Лео, вернувшегося в эту жизнь, то ли из-за себя, столь далекого от нее. Хотя раз уж мне нет никакого смысла впадать в хандру из-за человека, который доволен своей жизнью, то, стало быть, верна вторая гипотеза. Но от чего конкретно самоустранился я? И почему?
Спускаясь в метро на улице Ланца, гоню прочь из головы эту бессмыслицу и стараюсь сосредоточиться на озарении, сошедшем на меня, когда я рассматривал «Мадонну» Джампьетрино. Половину прелести этой картины составляет нечто, чего нельзя потрогать. Ощущение неуловимого смысла. И я спешу перенести это невещественное в более чем вещественное – в кусок аканы. Я хочу воплотить в материале эту ускользающую химеру вечной женственности. Я хочу вырезать ее, высечь, насытить ею плоть и кровь дерева. И таким образом, наконец, овладеть ею.
Войдя в мастерскую, я сразу же через стеклянную дверь в сад вижу Еву. Она меня не замечает, потому что сидит на корточках спиной к двери и занимается чем-то, что перед ней, на земле. Я вижу, как двигаются ее руки и плечи под красной обтягивающей майкой. На ней очень короткие шорты, открывающие незагорелые после зимы ноги.